Отв. ред. Н.Д. Кочеткова. М.: Худож. лит-ра, 1990.
Во всех, во всех странах Поэзия святая
Наставницей людей, их счастием была,
Везде она сердца любовью согревала.
Н. М. Карамзин
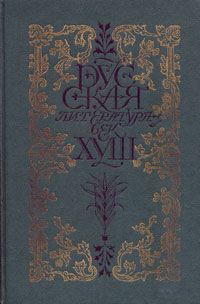
Дух обновления, характерный для всей русской культуры XVIII века, в полной мере проявился и в поэзии. Именно в этом столетии произошла реформа русского стихосложения — утвердилась существующая доныне силлабо-тоническая система стиха, пришедшая на смену силлабической. В поэзии хорошо прослеживаются и разительные языковые изменения — от стихов петровского времени до произведений Державина, Карамзина и Дмитриева, которых по праву можно назвать непосредственными предшественниками Пушкина. Интенсивность развития — вот одна из важнейших черт русской литературы XVIII века вообще и русской лирики в частности.
Но что же такое лирика для этой эпохи? Не есть ли XVIII век в России время создания совершенно нового явления, которого не знала литература Древней Руси? Едва ли можно дать однозначные ответы на эти вопросы. И вот почему.
Если говорить о том, что называют «лирическим началом», то найти его можно у самых истоков литературы. Образцами высокой лирики были и остаются произведения русского фольклора, прежде всего народные песни, причитания. Всё это органично вошло в древнерусскую литературу. Что же касается русского стиха, то и его история, с одной стороны, неотделима от народного творчества, а с другой — связана с силлабическим стихотворством, достигшим своего расцвета в XVII веке.
Силлабическая система стихосложения, основанная на соизмеримости строк по количеству слогов, развившаяся в русской поэзии под значительным воздействием польской культуры, предоставляла широкие возможности для изощренного версификаторства, характерного для искусства барокко. Увлечение стихотворством приобретает всё более значительные размеры: оно проникает и в учебные и в богослужебные книги. Силлабики с легкостью сочиняют своеобразные объемистые трактаты в стихах, причем счет строк в отдельных произведениях идет на тысячи. Однако только в XVIII веке появляются силлабики, осознающие, что «поэзия и стихотворство — разные вещи».
[1]
Речь идет о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче — крупнейших писателях петровского времени. Оба они, оказавшиеся непримиримыми врагами в жестокой политической борьбе, были яркими личностями, оба были прекрасно образованны, оба были наделены истинным поэтическим дарованием. Свое лучшее стихотворение (элегия к библиотеке) Стефан Яворский написал на латинском языке, следуя традиции новолатинской поэзии, существовавшей и в европейской и в русской литературе. Глубокий лиризм, отличающий это произведение, сохранен и в русском переводе XVIII века, представленном в настоящем издании. Самая тема смерти, трактовавшаяся в русской силлабике прежде всего в дидактическом плане, оказалась здесь овеяна ощущением подлинной земной человеческой печали. Любовное отношение к книге, поэтизация самого книгособирательства — вот еще лирическая тема, к которой, вслед за Стефаном Яворским, обратятся многие русские поэты и XVIII века, и последующих двух столетий. Вспомним, как умирающий Пушкин, глядя на свои полки с книгами, прошептал: «Прощайте, прощайте».
Силлабика — органичная, неотъемлемая часть русской лирики XVIII века. Можно заметить, в частности, важную особенность в ее развитии. Лучшие из написанных в Петровскую эпоху стихов оказываются связаны с обстоятельствами жизни самого автора. Так, например, в стихотворении Феофана Прокоповича «Плачет пастушок в долгом ненастьи» языком аллегорий говорилось о трудных временах, которые пришлось пережить поэту после смерти Петра I. С этого произведения и ответа на него Феофила Кролика прослеживается в XVIII веке целая традиция стихотворных диалогов: «Лето» Г. Р. Державина — «К Гавриилу Романовичу Державину» И. И. Дмитриева; «Стихи на жизнь» Н. С. Смирнова — «Возражение» И. И. Бахтина — «Ответ с теми же рифмами» Н. С. Смирнова и т. п.
Главное же, что роднит силлабиков начала столетия с последующей лирикой, — обращение к нравственно-философской проблематике. Размышления о добре и зле, жизни и смерти, законах совести и надеждах на счастье — все эти темы можно найти уже в стихах Стефана Яворского, Феофана Прокоповича, И. Максимовича, А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского.
В рукописях сохранилось немало произведений силлабической поэзии. Далеко не всегда определенно решается вопрос об их авторстве: некоторые стихотворения приписываются одному поэту, а потом выясняется, что они принадлежат другому (например, одно из публикуемых стихотворений Феофана Прокоповича атрибутировано ему совсем недавно, а раньше оно считалось принадлежащим А. Д. Кантемиру). Многие стихи не только в рукописях, но и в печатных изданиях помещались без подписи, и автор определялся по позднейшим сборникам, собраниям сочинений, свидетельствам современников и т. д. Однако постепенно в течение столетия все больше развивалось представление об авторстве: читателю становилось интересно, кто именно написал то или иное стихотворение, а самому поэту хотелось, чтобы читатель это знал. Тем не менее анонимные публикации встречаются на протяжении всего века, и до сих пор не всегда удается определить их автора.
Переход от силлабической системы к силлабо-тонической, основанной на упорядоченном чередовании ударных и безударных слогов, совершился в русской поэзии достаточно быстро, хотя далеко не мгновенно.
[2] Тенденция к тонизации была обусловлена самим характером русского языка, в котором ударение не фиксируется на определенном слоге, как, например, в польском — на предпоследнем или во французском — на последнем. Теоретиками новой системы стихосложения выступили сами поэты: начал реформу В. К. Тредиаковский, окончательно осуществил ее М. В. Ломоносов. Благодаря их ожесточенным спорам в 1730—1750-е годы, в которых живейшее участие принял и А. П. Сумароков, их литературным опытам и поэтическим состязаниям к середине столетия не только утвердилась силлабо-тоническая система, но были выявлены многие из ее богатых ритмических возможностей.
Переход к новой системе стихосложения осуществился в период, когда русская поэзия стала обретать права на общественное признание с помощью печати. Отдельными изданиями стали выходить стихи, приуроченные к официальным торжествам. Важнейшим фактором, способствовавшим читательскому интересу к литературе вообще и к поэзии в частности, явилось развитие русской периодической печати. Стихи часто печатались в приложении к газете «Санкт-Петербургские ведомости» — журнале «Примечания к ведомостям». Первый русский журнал, издававшийся Академией наук — «Ежемесячные сочинения» (1758—1764), — еще больше стал уделять внимания публикации стихотворений. Здесь стали появляться произведения Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, а также поэтов второстепенных: А. А. Нартова, А. В. и С. В. Нарышкиных и других.
По преданию, Петр I назвал Тредиаковского «вечным тружеником», и это определение может быть отнесено и к его поэтической деятельности. Всё, что написано им в стихах (не говоря уже о прозе), велико по объему и исключительно разнообразно по тематике, метрике, жанрам. Несмотря на присущее Тредиаковскому «чувство изящного» (слова А. С. Пушкина), большинство его произведений отличается нарочитой стилистической и звуковой затрудненностью. Читать эти стихи было нелегко уже его современникам, которые их пародировали и высмеивали. Однако к концу века опыты Тредиаковского в области стихосложения, в особенности по созданию русского гекзаметра, привлекли к себе внимание А. Н. Радищева (его трактат «Памятник дактило-хореическому витязю»). Примером использования гекзаметра в русской лирике явилось «Осьмнадцатое столетие» Радищева — одно из лучших стихотворений в русской поэзии.
По мнению Радищева, Тредиаковский «разумел очень хорошо, что такое стихосложение», но, «по несчастью его, он писал русским языком прежде, нежели Ломоносов впечатлел россиянам примером своим вкус и разборчивость в выражении и в сочетании слов и речей».
Знаменитая ломоносовская теория трех штилей, использовавшая предшествовавшую европейскую и русскую традиции, в наиболее существенных чертах определила пути дальнейшего развития русской лирики XVIII века. Ведь стили закреплялись за жанрами, а представления о жанре в XVIII веке, как ни в каком другом столетии, приобрели для русской поэзии и литературы в целом первостепенное значение.
Подобно петровской «табели о рангах», четко определявшей положение человека на сословной лестнице, жанровая система вносила строгую упорядоченность в литературное творчество. Лирические жанры в большинстве своем вовсе не были новыми: какие-то из них существовали в фольклоре и в силлабической поэзии (песня, эпитафия, стихотворное послание). С другими русские авторы знакомились по античной и европейской поэзии. Как своеобразный жанровый кодекс было воспринято «Поэтическое искусство» (1674) Н. Буало. Вместе с тем русским литераторам XVIII века предстояло разработать собственную систему жанров, представив их отечественные образцы. При этом важнейшим условием творчества стало считаться знание особенностей жанров, «различия родов», по выражению Сумарокова.
Казалось бы, создание жанровых канонов могло затормозить развитие литературы и особенно лирики, требующей в первую очередь проявления индивидуального начала. Однако этого не случилось. На протяжении всего столетия шел постоянный процесс противоборства: чем ощутимее становилась регламентация, тем сильнее подспудно росло сопротивление предписанным правилам, прорываясь к концу века откровенными протестами. К этому времени уже существенно сместились представления о жанровой иерархии, о высоком и низком. Это «движение» жанров, связанное с общей эволюцией культурного сознания, — особая тема. Не забегая вперед, отметим лишь, что всякое отступление от канона обретало ценность именно в соотнесенности с действовавшей жанровой системой, на фоне этой системы.
Изначально явное предпочтение отдавалось высокому жанру оды, занявшему совершенно особое, ключевое место. Так или иначе отношение к одическому жанру стало определять позицию каждого поэта XVIII века.
Обычно ода предназначалась для публичного торжественного прочтения перед тем высокопоставленным лицом, кому она была адресована. Поэтому этот жанр становился как бы частью своеобразного театрального церемониала, в котором автор выступал и как исполнитель. Тредиаковский демонстрировал униженность своего положения панегириста, читая свои стихи Анне Иоанновне, стоя на коленях, как рассказывают об этом мемуаристы XVIII века. К счастью, такие времена скоро миновали, и другие одописцы уже не стали следовать этому обычаю.
Тем не менее похвальная ода с ее обязательной комплиментарной частью неизбежно становилась не только поэтическим, но и своего рода нравственным испытанием.
«Упрямка славная», чувство собственного достоинства, глубоко присущие Ломоносову, оказались надежной защитой от грозившей опасности лицеприятства. В его одах есть похвалы владыкам, но нет и оттенка раболепия, искательства. Возвышаясь силой своего могучего воображения «на верх Олимпа», поэт не говорил, а вещал, выступая в качестве провозвестника высших истин, обращаясь к царям на языке богов, доступном только поэту.
Оды Ломоносова, начиная с его первой оды «На взятие Хотина» (1739), явили собою классический образец русской оды с десятистрочной строфой и четырехстопным ямбом. Впрочем, сразу важно уточнить, что эта форма была принята преимущественно для похвальной оды. Другие же разновидности жанра (духовная, натурфилософская, позднее нравоучительная) большей частью не были ориентированы на этот канон. Свои отличия имела и анакреонтическая ода, о которой речь впереди.
Опираясь на опыт античной и европейской лирики, в частности немецкой (оды И.-Х. Гюнтера), Ломоносов сумел дать новую жизнь жанру, возможности которого в европейской поэзии, казалось, были уже исчерпаны. Созданные поэтом оды продолжают «пленять ум» своей неповторимой красотой и величием на протяжении веков.
Размышляя о судьбах страны, ее прошлом и будущем, развивая темы науки, мира, славы России, Ломоносов стал создателем целой традиции в отечественной поэзии, которая, по существу, противостояла проникнутой раболепием сервильной оде. Огромное значение имела и созданная Ломоносовым система образов, его возвышенный стиль. С метафорическими образами читатель встречается с первых строк почти каждой ломоносовской оды. Так, наиболее известная ода 1747 года начинается с воссоздания образа «возлюбленной тишины», которая рассыпает «щедрою рукою // Свое богатство по земли» и которая так прекрасна, что на нее любуется «великое светило миру» — солнце. Насыщенность аллегориями, смелая метафоричность — всё это открывало новые возможности для развития поэтического стиля.
То же самое можно сказать и о натурфилософских одах Ломоносова, которые вместе с тем остаются особым, неповторимым явлением в русской и даже мировой лирике. Трудно было следовать по стопам поэта-ученого мирового масштаба, автора удивительных по глубине научной мысли «размышлений» о природе солнца или северного сияния. Правда, «космические» темы нашли свое продолжение в отечественной поэзии: в конце века они начали звучать в творчестве С. С. Боброва. Как ни скромен его талант, по сравнению с Ломоносовым, — это одно из звеньев эстафеты, переданной XIX столетию.
Собственно духовные оды Ломоносова (переложения псалмов и «Ода, выбранная из Иова») органично вошли в традицию, начатую на Руси еще в XVII веке Симеоном Полоцким, продолженную Тредиаковским и привлекавшую внимание почти всех наиболее замечательных лириков XVIII века: А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, И. Ф. Богдановича, Н. П. Николева, Г. Р. Державина, Е. И. Кострова, И. А. Крылова, И. И. Дмитриева и многих, многих других. Обращение к одним и тем же библейским текстам открывало возможности для своеобразных поэтических состязаний, выявляло индивидуальный почерк каждого автора. В этих переложениях слышалось и осуждение царящего в мире зла, и надежда на торжество справедливости, и страстная мольба попавшего в беду человека о защите и помощи. «Вечные» темы мировой поэзии здесь вновь обретали свое собственное выражение, новые и новые оттенки. В известном смысле этот жанр оказался менее каноничен, чем похвальная ода.
Духовные оды Ломоносова, в отличие от похвальных, не были восприняты современниками и ближайшими поколениями как непреложный образец, но позднее на особое достоинство этих стихов обратил внимание А. С. Пушкин, отметивший, что «сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения».
[3]
Перелагая библейские тексты, Ломоносов избегал чрезмерной выспренности, сравнительно мало употреблял славянизмы, находя предельно простые общепонятные слова, озарявшие древние истины новым светом:
Никто не уповай во веки
На тщетну власть князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.
Обычно с именем Ломоносова — и это вполне закономерно — связано представление о высокой лирике, наполненной глубоким общественным и философским содержанием. Чаще всего при этом ссылаются на известное программное стихотворение Ломоносова «Разговор с Анакреоном» (1747), в котором анакреонтической поэзии противопоставляется та, которая воспевает «героев славу вечную». Но в то же время мастерские переводы анакреонтических од, включенные в текст стихотворения, свидетельствуют и о причастности Ломоносова к богатой традиции в русской поэзии, связанной с именем Анакреона — начатой еще Кантемиром и достигшей своего расцвета в творчестве Державина. Так в поэзии Ломоносова наметились основные, магистральные пути дальнейшего развития лирики XVIII века.
Правда, из непосредственных учеников Ломоносова можно назвать немногих, прежде всего Н. Н. Поповского — одаренного поэта, к сожалению рано умершего. Как и положено достойному ученику, он явился не подражателем, не копиистом; ему принадлежит заслуга введения в отечественную поэзию горацианских тем. Созданные им переводы од Горация в художественном отношении более совершенны, чем многие последующие, не говоря уже о предшествовавшем опыте Тредиаковского. Переводы Поповского, по существу, стоят у истоков целой традиции русской горацианской оды, приобретшей свои характерные черты в творчестве Г. Р. Державина или В. В. Капниста. Горацианские мотивы органично вошли в русскую философскую поэзию, получив в ней новое звучание.
Ломоносов выбрал одну, хотя, может быть, и самую замечательную оду Горация и написал стихотворение «Я знак бессмертия себе воздвигнул...», проложив путь к шедеврам Державина и Пушкина. Поповский же удивительно своевременно привлек внимание русских поэтов к одическому творчеству Горация в целом: созданный им цикл как бы противостоял торжественной похвальной оде, необходимую дань которой отдал и сам переводчик. В горацианской оде речь шла не о подвигах героев, но о печалях и радостях обыкновенного человека, занятого своими земными заботами и размышлениями о праведном пути. Так горацианство способствовало развитию философии стоицизма, столь важной для русской поэзии и литературы в целом.
У многочисленных подражателей Ломоносова похвальная ода стала приобретать все более официальный характер. Неудивительно, что многие свободомыслящие литераторы настороженно и даже враждебно встретили «Оду на карусель» (1766) В. П. Петрова, которого Екатерина II пыталась провозгласить «вторым Ломоносовым».
Борьба против Петрова явилась, по существу, одним из свидетельств того, как высок и даже священен был авторитет Ломоносова в глазах большинства писателей XVIII века. Каждое новое поколение по-своему интерпретировало его творчество, находя в нем созвучные идеи, темы, образы. Споря с Ломоносовым, в чем-то продолжали у него учиться и Радищев, и Карамзин, и Дмитриев.
Иные судьбы были у лирики Сумарокова, которого многие современники называли своим учителем, считая его главой целой поэтической школы. Менее всего этой репутацией он был обязан своим одам. Сумароков выступил создателем так называемой «сухой» оды: в отличие от ломоносовской, насыщенной метафорическими образами, эмоциональной по всему своему характеру, ода Сумарокова строилась преимущественно на логическом развитии определенной темы, что придавало ей большую рассудочность. «Холодный Сумароков», как его назвал А. С. Пушкин, скептически относился к тому «великолепию», в котором он не видел «ясности». Но, при всех различиях с ломоносовской, ода Сумарокова сохраняла с ней и определенную общность, поддерживая представление об этом жанре как «высшем виде лирики».
[4]
Тем не менее для последователей Сумарокова несравненно важнее, чем его оды, оказались другие жанры.
Важной заслугой поэта было обращение к самым разным лирическим жанрам. В большинстве случаев он не был первооткрывателем: отчасти ему предшествовали силлабики, и особенно Тредиаковский. Но так же, как русская ода, по существу, начинается все-таки не с Тредиаковского, а с Ломоносова, так и элегия — с Сумарокова. Этот жанр, которому суждена была такая счастливая судьба на русской почве, приобрел у Сумарокова достаточно устойчивые черты: в элегии стала доминировать любовная тема с ее характерными коллизиями (разлука с возлюбленной, ее измена и т. п.); выработалась определенная система образов и самый стиль, включая устойчивые фразеологизмы («стесненный дух», «несносная мука», «лютая страсть»); за жанром закрепился достаточно надолго один и тот же метр — александрийский стих. Этот тип элегии варьировался уже многочисленными современниками Сумарокова (А. А. Нартовым, А. В. и С. В. Нарышкиными, А. А. Ржевским и др.) и сохранился в русской поэзии вплоть до 1790-х годов (например, элегии И. Б. Лафинова). Правда, в конце века подобные стихи выглядели уже несколько старомодно, но в свое время узаконение элегии как жанра утверждало и права любовной лирики. Еще Тредиаковского, осмелившегося напечатать свой перевод аллегорического галантного романа П. Тальмана «Езда в остров Любви» с приложением собственных любовных стихов (1730), называли «развратителем русской молодежи». Сумароков же в «Эпистоле о стихотворстве» (1747), наставляя «стремящихся на Парнас», вслед за Н. Буало, обращает их внимание и на элегию:
Когда ты мягкосерд и жалостлив рожден
И ежели притом любовью побежден,
Пиши элегии, вспевай любовны узы
Плачевным голосом стенящей де ла Сюзы.
Упоминание графини Г. де ла Сюз, французской поэтессы XVII века, прославившейся своими элегиями, обращение в другом стихотворении («Жива ли, Каршин, ты?..») к «германской Сафе» — немецкой поэтессе А.-Л. Карш (Каршин), современнице Сумарокова, — все это не только вводило русскую любовную лирику в контекст европейской поэзии, но и обращало внимание на причастность женщин к литературе, поощряя молодых россиянок к вступлению на поэтическое поприще. Неудивительно, что среди первых русских поэтесс XVIII века оказалась дочь Сумарокова, вышедшая затем замуж за драматурга Я. Б. Княжнина. Если она еще печатала стихи анонимно, то Е. В. Хераскова, жена М. М. Хераскова, уже ставила при публикациях свои инициалы, и об ее авторстве хорошо знали в литературных кругах, называя ее «российской де ла Сюзой».
Для поэтов и поэтесс 1760-х годов Сумароков оставался и образцовым автором в самых разных лирических жанрах, и наставником, к советам и рекомендациям которого внимательно прислушивались. Сумароков стремился обособить каждый жанр — всему следовало найти соответствующие формы выражения: героическому подвигу — одно, любовной тоске, горести об ушедшем друге — другое, радости при ощущении счастливой безмятежной любви — третье. Важно было закрепить эту форму раз и навсегда и не смешивать разные жанры — таковы непреложные требования классицизма. На практике, однако, все оказывалось гораздо сложнее.
Как и в европейской поэзии, в идиллии и эклоги Сумарокова и его последователей могли проникать элементы элегии. И то и другое воздействовало на жанр литературной песни, приобретший широкую популярность и узаконенный опять-таки благодаря Сумарокову. Кантемир, писавший в юности песни, говорил позднее, что сочинение любовных песен — дело тех, «коих... ум неспел». Слава «нежного автора» смущала и Сумарокова, гордившегося прежде всего своими трагедиями и «высокой» лирикой. Но декларированное писателем в спорах с Ломоносовым требование ясности и простоты наиболее полно реализовалось не в одах и даже не в элегиях, а именно в песнях.
Совершенно естественно и органично входила в этот жанр и устная народная поэзия. Взаимодействие фольклорной и литературной песни (не только любовной, но и солдатской), осуществленное в творчестве Сумарокова, оказалось процессом, определившим развитие жанра на протяжении всего XVIII века и получившим продолжение в XIX столетии. Характерно, в частности, что ближайшим последователем Сумарокова в этом направлении стал М. И. Попов, проявлявший устойчивый интерес и к древней славянской мифологии, и к отечественному фольклору. Песня была — наряду, может быть, только со стихотворным посланием — наиболее свободным и гибким лирическим жанром, не скованным определенными ритмическими требованиями.
Между тем Сумароков, вслед за Тредиаковским, но с несравненно большим успехом, начал освоение самых разных стихотворных форм: станс, сонет, рондо и т. д. Тематически эти стихотворения нередко сближались с элегией и одновременно открывали новые возможности для развития русской медитативной лирики.
«Примером жанрового мышления эпохи» Г. А. Гуковский удачно назвал анакреонтическую оду, выделив ее как особый жанр русской лирики XVIII века.
[5] Анакреонтическая ода, или анакреонтические стихи, — это вовсе не обязательно перевод или подражание Анакреону. При свободно варьируемой тематике (преимущественно, однако, мажорной тональности) эта ода отличалась прежде всего отсутствием рифмы и совпадением стиха с синтаксической единицей фразы, а также женским окончанием:
Завидны те мне розы,
Которы ты срываешь.
К чему тебе уборы?
Прекрасней быть не можешь!
Эти начальные строки «Оды анакреонтической» (1755) Сумарокова дают представление о звуковой структуре жанра, продолжавшего привлекать внимание русских поэтов до самого конца столетия. Впрочем, может быть, вернее было бы говорить все-таки о стихотворной форме, а не жанре, учитывая разнохарактерность содержания анакреонтической оды.
Так, уже у Хераскова эта ода превращается в философскую медитацию («О разуме», «О злате» и др.). Херасков — поэт, сумевший уловить важные тенденции эпохи и щедро награжденный за это современниками, которые на протяжении нескольких десятилетий произносили его имя с восторгом и почитанием. Вокруг Хераскова и сплотилась так называемая сумароковская школа (А. А. Ржевский, В. И. Майков, И. Ф. Богданович и др.) — литераторы, сотрудничавшие в журналах «Полезное увеселение» (1760—1762), «Невинное упражнение» (1763), «Свободные часы» (1763), «Доброе намерение» (1764).
Отдавая дань традиционной похвальной оде, Херасков и его приверженцы с большим энтузиазмом и несомненно с большим результатом взялись за разработку иных жанров. Сам Херасков выступил создателем нового типа оды — «нравоучительной», написанной, в отличие от анакреонтической, рифмованным ямбом и, в отличие от похвальной, не разделенной на строфы.
Постепенно формальные признаки одического жанра начинали все заметнее размываться. Одновременно и темы «философических» од (восхваление добродетели, сетования на скоротечность и суетность жизни, размышления о счастии и т. п.) перекочевывали в стансы, сонеты, рондо, даже в эпитафию и эпиграмму, если она сохраняла исконное значение краткой надписи, вовсе не обязательно сатирического характера, например эпиграммы Богдановича. Вместе с тем особый интерес стали вызывать всевозможные поэтические эксперименты, блестящим мастером которых выступил Ржевский: его ода из односложных слов, сонеты на заданные рифмы, сонеты, рассчитанные на три способа прочтения и т. д. Такие эксперименты не только демонстрировали богатые метрические и ритмические возможности русского стиха, но по-своему помогали отказаться от той категорической однозначности и строгой регламентации, к которой обязывала теория классицизма. Превознося красоту в одной оде (лишенной, кстати, уже формальных жанровых признаков), Богданович опровергает эти мысли в другой, используя те же самые рифмы. У Майкова, а затем и других поэтов появляются оды, обращенные, подобно посланию, к определенному адресату: «Ода Платону о бессмертии души» и другие. У Я. Б. Княжнина ода оказывается посвящена пейзажной зарисовке, соприкасаясь с идиллией: «Утро. Ода». Подобные попытки обновления жанра были, несомненно, плодотворны.
Но подлинно новую жизнь ода получила в творчестве самого замечательного лирика XVIII века — Г. Р. Державина. Широкую известность и признание, прижизненную славу ему принесла, несомненно, «Фелица» (1783). В. Ф. Ходасевич заметил, что «в поэтическом отношении эта слава была бы справедливее, если бы последовала тотчас за стихами на смерть Мещерского».
[6] Для современного читателя стихотворение «На смерть князя Мещерского» (1779) скорее всего покажется даже более значительным и совершенным, чем «Фелица».
Каждое из этих стихотворений связано с разными жанровыми традициями: первое — с философской одой, второе — с одой похвальной. Но ведь с этим жанром было сопряжено представление о недосягаемых высотах ломоносовской оды. Ее последователи неизбежно повторяли устоявшиеся штампы, и сказать здесь поистине свежее слово было особенно трудно. Державину это удалось. «Фелица» — ода с традиционной строфикой, написанная традиционным четырехстопным ямбом, посвященная традиционной теме. Но эта ода настолько необычна, настолько непохожа на все, что существовало раньше. Императрице, как известно, весьма польстил портрет «богоподобной царевны», изображенной так по-человечески, с упоминанием о «простой пище» за ее столом, о ее пеших прогулках и т. д. Абстрактные одические образы стали приобретать конкретность: цари-боги были сведены на землю. Сам поэт тоже как будто демонстративно отказывался от миссии пророка, возглашающего истины владыкам:
Пророком ты того не числишь,
Кто только рифмы может плесть<...>
Читатели с удивлением могли заметить, что в оду проникли элементы сатиры, изменилась привычная система образов, стиль, самая интонация. Обновляя содержание оды, Державин отказался и от стереотипов одической рифмы он смело начал вводить новые созвучия. Ораторскую интонацию заменила разговорная, простодушно-доверительная, порою саркастическая.
От оды Ломоносова у Державина сохранилось, однако, очень существенное: гражданственный характер, стремление деятельно участвовать в решении важнейших общественных вопросов, выдвижение развернутой политической программы. Сохранилось и другое: чувство собственного достоинства, присущее поэту, независимость его суждения, откровенно просвечивающие через все похвалы и лестные слова.
Позицию Державина, автора «Фелицы», нельзя рассматривать вне контекста его творчества в целом, особенно таких стихотворений, как «Властителям и судиям», «Вельможа», «На птичку», «Храповицкому» и т. д. В «Фелице» прозвучал вопрос, к которому поэт возвращался на протяжении всей жизни: «как пышно и правдиво жить?» Разные стороны державинской лирики как бы объединяются в этом вопросе: и гедонистические мотивы (включая красочные описания великолепных торжеств и пиршеств), и нравственно-философские, связанные с традициями до- и последержавинской русской поэзии. Правда, ее поиски — важнейшая тема, проходящая через державинские стихи самых разных жанров: звучащая с небывалой силой в духовной оде — переложении псалма «Властителям и судиям», по-своему возникающая в похвальных одах и придающая совершенно особый характер анакреонтической лирике.
Подчас у Державина трудно уже вычленить жанр: одно и то же стихотворение в разных публикациях могло иметь жанровое обозначение, а могло и не иметь его. Границы оды сделались открытыми, и с торжественными одами на победы Суворова соперничает маленькое лирическое стихотворение «Снигирь» — один из державинских шедевров.
Жанровая раскованность, присущая поэзии Державина, во многом была уже знамением времени. К этому пришел и М. Н. Муравьев, поэт совершенно иного плана, но по-своему оказавший огромное влияние на развитие русской лирики XVIII и даже начала XIX века. Большинство его стихотворений было опубликовано уже после смерти автора, многие — спустя почти два века после их создания. Но в дружеском литературном кругу хорошо знали Муравьева и как поэта и как тонкого ценителя поэзии.
Почему же Муравьев так мало и редко печатал свои произведения? Можно говорить и о строгой взыскательности художника, и о его ощущении некой незавершенности своих стихов: в течение ряда лет он вновь и вновь обращался к работе над их текстом. Но здесь была и своя историческая закономерность. В 1770—1780-е годы, годы интенсивного поэтического творчества Муравьева, еще очень устойчивым было представление о стихотворных жанрах, их иерархии. Вначале, как бы повинуясь этому господствовавшему представлению, поэт выпустил сборник «Оды» (1775). Но дальше все пошло не по правилам: Муравьев, «перепутав все жанры, превратил свои стихи в лирический дневник».
[7] Возникло новое явление, не предусмотренное теорией классицизма, но получившее законные права в искусстве сентиментализма и преромантизма — поэтический фрагмент, созданный «мудрецом единого мгновения».
Отличия лирики Муравьева от державинской особенно заметны в изображении природы. Праздничные, блещущие яркими нарядными красками пейзажи Державина до сих пор остаются непревзойденными образцами словесной живописи. Язык аллегорий приобрел у него удивительную зримую конкретность, неожиданно соприкоснувшись с миром русского фольклора. Поэт сумел увидеть, как «румяна Осень носит // Снопы златые на гумно», как с севера наступает Зима — «Идет седая чародейка, // Косматым машет рукавом». Зоркий глаз уже старого Державина замечает «пурпур в ягодах», «бархат-пух грибов», «сребро, трепещуще лещами», «желто-зеленые ковры» пестреющих копен и снопов.
Иной предстала природа в стихах Муравьева. Его пейзажная лирика открыла новые отношения между природой и человеком. Одушевляя ее, поэт начинает и себя чувствовать ее частью. Анализируя поэтический стиль Муравьева, Г. А. Гуковский обратил внимание на преобладание у него эпитетов, создающих прежде всего определенную эмоциональную атмосферу: «приятная тишина», «сладкий покой», «кроткий луч» и т. д.
[8] Вскоре этот поэтический язык обогатится в творчестве Карамзина, а затем и Жуковского.
Причастность Муравьева к сентиментализму несомненна. Но самая литературная жизнь была гораздо сложнее и многограннее, чем сформировавшиеся позднее представления о литературных направлениях, существовавших в XVIII веке. Поэты, воспринимаемые нами как представители разных школ и направлений, были хорошо знакомы друг с другом, дружили, ходили друг к другу в гости, печатали свои стихи в одних и тех же журналах. Личное общение, несомненно, способствовало и взаимному влиянию, взаимодействию разных направлений, как мы теперь можем сказать.
Примером замечательного содружества достаточно разных поэтов может служить так называемый львовско-державинский кружок, объединявший не только литераторов, но и музыкантов, художников, — кружок, сыгравший видную роль в развитии русской культуры XVIII века. Из поэтов, помимо самого Державина и Н. А. Львова, сюда входили и В. В. Капнист и И. И. Хемницер. В разной степени с кружком были связаны и Муравьев, и Дмитриев, и Карамзин.
Подлинной душой кружка был Львов — архитектор, музыкант, фольклорист, литератор и теоретик искусства. Разносторонность его дарования по-своему проявилась и в лирике, имевшей преимущественно преромантический характер. В оде «Музыка, или Семитония» Львов использует традиционный жанр для прославления не героя, не мецената, но «волшебной власти» гармонии, дарующей людям счастье. Это стихотворение, наряду с некоторыми стихами Державина («К лире», «Цыганская пляска» и др.) и Дмитриева («Стихи на игру господина Геслера», «Экспромт (На игру г-на Дица)» стоит у истоков достойной внимания темы: музыка в русской поэзии. Замечательно внимание Львова к звуковой стороне народной песни, и его опыты по созданию «народного стиха» (например, «Песнь норвежского витязя Гаральда Храброго»).
Стремясь постигнуть и выразить самобытность отечественной культуры, поэты львовско-державинского кружка не замыкались в узко национальных рамках. Вслед за своими предшественниками они постоянно обращались к античной и европейской поэзии: переводы Львова из Анакреона, подражания Капниста Горацию и т. д.
Горацианская ода получила новое бытие в творчестве Капниста. По его собственным словам, он «стремился перенести Горация в наш век и круг». В результате поэту удалось удивительно органично соединить горацианские мотивы с традициями русской лирики, выразить в этих одах то, что было близко и дорого его поколению, окружавшим его друзьям, ему самому. Свою «тиху песнь» Капнист отграничивал от громкой одической поэзии (ода «Ломоносов»), не дерзая равняться с «росским Пиндаром». Характерно, однако, что самое жанровое определение Капнист сохранил в рубриках поэтических сборников, включающих помимо «торжественных», «духовных» и «горацианских» од «нравоучительные и элегические» и «анакреонтические оды» — стихи камерного содержания, зачастую вовсе не обладающие обязательными формальными признаками жанра. Наиболее традиционным по отношению к форме Капнист оказался в жанре оды торжественной, но именно этот жанр был избран поэтом для выражения вольнолюбивых идей, отчасти сопоставимых по своей смелости с радищевскими.
«Ода на рабство» Капниста и в еще большей степени «Вольность» Радищева обнаружили совершенно новые возможности жанра, вновь выдвинув его на один из магистральных путей развития русской лирики. «Бунтовская» ода Радищева, неразрывно связанная со всем содержанием крамольного «Путешествия из Петербурга в Москву», возвращала жанр к истинно высокой проблематике. Строфика, ораторская интонация, в значительной степени стилистика — все это повторяло традицию, тем разительнее было несоответствие в содержании: вместо похвалы царю или полководцу — прорицание вольности. Героическое начало, искони присущее оде, приобрело совершенно новый смысл: подлинно неустрашимым героем, бросающим вызов сидящим на престоле, становился сам автор. Потому так уместны в этой торжественной оде строки, имеющие глубоко личный характер и затрагивающие столь важную для русской лирики тему бессмертия поэта:
Да хладный прах мой осенится
Величеством, что днесь я пел <...>
Новый поворот в судьбе одического жанра от Радищева привел к «высокой» поэзии декабристов и Пушкина. В. К. Кюхельбекер имел достаточно оснований для того, чтобы заявить: «В оде поэт бескорыстен: <...> он вещает правду и суд Промысла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга».
[9] Эти слова по-своему могут быть отнесены к одам и Ломоносова, и Державина, и Кострова, и Капниста, и тем более Радищева.
Не только с одой «Вольность», но со всем поэтическим творчеством Радищева, с его небольшими по объему «безжанровыми» стихотворениями, проникнутыми подлинным лиризмом, соотносится поэзия П. А. Словцова, чья судьба оказалась почти столь же трагична, как и автора «Путешествия из Петербурга в Москву».
Поэты, входившие в Общество друзей словесных наук, членом которого был и Радищев, и сотрудничавшие в журнале «Беседующий гражданин» (1789) — С. С. Бобров, С. А. Тучков, С. С. Пестов — по-своему продолжали традиции «философической» оды, не отказываясь и от малых, камерных, жанров.
Быстро отсеивались и прочно забывались бесчисленные громкие оды, содержавшие дежурные похвалы монарху или высоким покровителям, написанные по устоявшимся шаблонам. Но нельзя забывать, что они-то и составляли в 1780—1790-е годы тот общий фон, который оставался еще таким привычным.
Выступление с хвалебной одой сделалось даже своеобразным ритуалом, необходимым для каждого стихотворца, желающего получить признание. На демонстративный отказ от подобного ритуала были способны немногие. В этом отношении замечательно стихотворение Карамзина «Ответ моему приятелю...», определяющее независимую позицию поэта.
Полемическое отношение к традиционной хвалебной оде было и у Карамзина, и у Дмитриева, и у многих других поэтов, связанных с сентиментализмом. Но это не было отказом от высокой темы в лирике. Достаточно вспомнить стихотворение Карамзина «К Милости», достойно продолжающее гражданственную одическую традицию, или стихотворение Дмитриева «Ермак», «исполненное огня поэтического», по выражению П. А. Вяземского, поражающее «звучностью стихов, разительных и твердых».
[10]
В то же время у поэтов нового направления с их интересом к отдельному, частному человеку, к миру его чувств — к «жизни сердца» все заметнее становилось предпочтение камерной лирики. Вместо четко определенного стилистически и ритмически жанра элегии в русской лирике начиная с Муравьева стали появляться многочисленные стихотворения, не имевшие жанровых обозначений и примет, но окрашенные элегической тональностью. Одновременно рос интерес к поэтической «безделке» (мадригал, надпись и т. п.), требовавшей особой изысканности. Все больше завоевывает прав «легкая поэзия», которую К. Н. Батюшков позднее назвал «прелестною роскошью словесности».
Характерно, что в поэзии сентиментализма на одно из первых мест выходит когда-то презиравшаяся песня, прокладывая одновременно дорогу новому явлению в русской культуре — романсу. В течение десятилетий сохраняли исключительную популярность песни на слова Карамзина, Дмитриева, Нелединского-Мелецкого и других поэтов 1790-х годов. Несколько поколений искренне восхищались знаменитой песней Дмитриева «Стонет сизый голубочек...», входящей и ныне в репертуар исполнителей старинных романсов. Во многом ориентируясь на фольклор, поэты по-своему обрабатывали народную песню, стремясь придать ей черты изысканной галантности. «Голубочек» стал варьироваться на разные лады — открылась благодатная тема для многочисленных подражаний. Опять начал складываться стереотип, и это ставило новую школу под удар.
Как бы предваряя последующую борьбу «архаистов» и «новаторов», в 1790-е годы сформировалось два враждующих лагеря, каждый из которых объединялся вокруг «своих» печатных органов. «Московскому журналу» Карамзина во многом противостояли журналы, издававшиеся И. А. Крыловым «с товарыщи» (А. И. Клушиным и П. А. Плавильщиковым) — «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий».
[11] Однако, ведя полемику с сентименталистами, сотрудники крыловских журналов нередко и сами обращались к камерной лирике и даже к излюбленным темам своих противников. Именно поэзия оказалась той областью, где художественные поиски тех и других неожиданно очень тесно соприкоснулись. Многие написанные Крыловым, Клушиным, А. И. Бухарским стихотворения, в которых авторы изливали «скорбь души» и сетовали на разлуку с возлюбленной, порою даже трудно отграничить от произведений, созданных «карамзинистами». Одописец Н. П. Николев, над «Творениями» которого смеются авторы «Безделок», с успехом пишет песни, и лучшую из них «Вечерком румяну зорю...» Карамзин печатает в «Московском журнале».
Общие тенденции, характерные для развития русской лирики конца столетия, хорошо прослеживаются в творчестве второстепенных, но достаточно интересных авторов. Немалую роль тут играли и новые культурные гнезда, появившиеся в разных концах России и существовавшие ранее, но оживившие свою деятельность благодаря успехам печатного дела. Так, весьма примечательным событием в литературной жизни Сибири явился тобольский журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (1789—1791 гг.). Здесь публиковались стихи и губернского прокурора И. И. Бахтина, и сосланного в Сибирь за подделку ассигнации дворянина П. П. Сумарокова, и крепостного интеллигента Н. С. Смирнова. Во многих народных училищах и духовных семинариях, остававшихся центрами местной образованности, выступали со стихами и преподаватели и ученики. Результатом этих упражнений нередко были произведения вполне профессиональные, а главное, раскрывающие нам мир тревог, надежд и мечтаний этих людей. В большей или меньшей степени личное начало находит отражение в стихах нижегородского учителя Я. В. Орлова или тверского семинариста Ф. Модестова.
Одновременно ряды столичных любителей муз пополняются новыми и новыми именами. Московские и петербургские журналы 1790-х годов знакомят публику с молодыми поэтами, преимущественно сентименталистского направления, придававшими большое значение отточенности, изяществу стиха и самого стиля. А. В. Аргамаков, П. Г. Гагарин, М. Л. Магницкий, П. А. Пельский, Г. А. Хованский и многие другие, включая и поэтесс, которых становится все больше (сестры Магницкие, А. С. Жукова, Е. С. Урусова и др.), — каждый из них вносит свою лепту в создание той общей стихотворной культуры, без которой были бы невозможны и вершинные явления.
Значительно выросло и число любителей поэзии, которая входила в самый быт образованных, а порой даже и только тянувшихся к образованию семей. Появившиеся в конце века стихотворные альбомы, часто богато иллюстрированные, уже существенно отличались от предшествовавших им рукописных сборников. Некоторые альбомы представляли собой антологии, обдуманно и бережно составленные из любимых стихов.
Честь издания первой печатной русской поэтической антологии принадлежала Карамзину, выпустившему в 1796—1799 годы три миниатюрных томика под названием «Аониды». Издатель дерзнул обойтись без авторитетов недавнего прошлого: в антологию вошли стихи лишь современных поэтов. Знаменательно, что здесь рядом со стихами самого Карамзина и Дмитриева были напечатаны произведения и Державина, и Крылова, и Николева, а также многих начинающих молодых стихотворцев. Это был генеральный смотр русской поэзии конца века и одновременно — школа мастерства. Предисловие, предпосланное Карамзиным второй книге антологии, содержало целую литературную программу. «<...> Истинный поэт, — говорилось здесь в частности, — находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону: его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать остроумную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением, показывать оттенки, которые укрываются от глаз других людей, находить неприметные аналогии, сходства <...>».
[12] Весьма значимой оказалась и шутка, произнесенная Карамзиным на дружеском обеде по случаю издания «Аонид»: «Кто в наше время напишет вялый и водяной стих, тому именным указом должно запретить писать стихи».
[13]
Старшие современники Пушкина зачитывались «Аонидами», переписывали в альбомы понравившиеся стихи, а кое-кто тайно снимал копию с запрещенной книги Радищева, выводя строки крамольной «Вольности».
Лирика XVIII века в первые десятилетия века XIX продолжала еще жить необыкновенно интенсивной жизнью. Но прошло время, и ее затмила блестящая пушкинская пора.
Годы шли, одни властители дум сменялись другими, но, возвращаясь к прошлому, истинные ценители поэзии открывали все новые и новые красоты в далекой лирике XVIII века. А в XX столетии наконец поняли, что эта лирика вовсе не так далека, особенно если вчитаться в нее не спеша и почувствовать величие ее образов, музыку ее созвучий, задушевность и неповторимую прелесть.
Н. Д. Кочеткова
[1] Панченко А. М. Истоки русской поэзии. — Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII bb. Л., 1970, с. 5—34.
[2] Реформа русского стихосложения неоднократно была предметом специальных исследований, основные результаты которых отражены в кн.: Холшевников В. Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. Изд. 2-е. Л., 1972; Гаспаров М. Н. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984.
[3] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л., 1978, т. 7, с. 22.
[4] Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр. — Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 245.
[5] Гуковский Г. Л. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927, с. 125.
[6] Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988, с. 103.
[7] Кулакова Л. И. Поэзия М. Н. Муравьева. — Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967, с. 47 (Библиотека поэта. Большая серия).
[8] См.: Гуковский Г. А. У истоков русского сентиментализма. — Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в. Л., 1938, с. 280—282.
[9] Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие. — Мнемозина. М., 1824, ч. 2, с. 31.
[10] Вяземский П. А. Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева. — Вяземский П. А. Сочинения. М., 1982, т. 2, с. 62—63.
[11] См.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.—Л., 1952, с. 496.
[12] Карамзин Н. М. Избр. соч. М.—Л., 1964, т. 2, с. 144.
[13] Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 159.